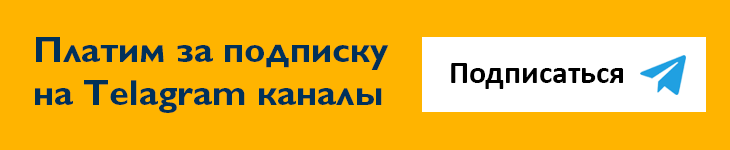Когда родителю хочется поддержать ребенка, он говорит: «Молодец», «Горжусь тобой». Когда хочет подстегнуть ребенка улучшить свой результат или исправить поведение — «Посмотри, как у Маши получается», «А вот у Маши…». Эти фразы знакомы всем нам с детства, и мы активно их используем и со своими детьми. Собственно, уже забылось, как обидно было нам самим слышать от родителей или преподавателей «Почему ты не можешь быть, как Маша» и как-то не радостно было слышать «молодец» от занятой мамы, которая спешила закончить свои дела.
Почему же мы до сих пор уверены, что слова — это просто слова, которые ни на что не влияют. Ну, говорим мы ребенку о том, что гордимся им за его достижения. Что тут плохого? Или засыпаем его «молодец». Разве это не повышает его самооценку? Педагог Дима Зицер уверен, что в этих привычных для всех нас родительских словах таится опасность. Вместо поддержки и уверенности в себе, они обесценивают самого ребенка и его достижения.
Педагог Дима Зицер: Почему «Я горжусь тобой» – это фраза-ловушка
«Я горжусь тобой»
С годами понимаешь, что, как сказал Борис Борисыч Гребенщиков, «нет ни печали, ни зла, ни гордости, ни обиды». Гордость – чувство иррациональное, оно никуда нас не ведет. Я горжусь, что я – русский, еврей, женщина, мужчина. Примеры довольно простые, но очень частые. И идеально демонстрируют гордость в чистом виде. Ну что мне гордиться, что я – мужчина? Или что я родился в той или иной стране?
Пример того, как я существую не сам по себе, а связанный с какими-то факторами, чаще всего внешними. Здесь очень сильная привязка к собственному эго. Гордость и эго – неразрывные вещи. То, что связано с работой над собой, с талантами, которыми я пользуюсь и которые развиваю, это самость. А если я говорю, что горжусь тем, что я – дяденька или тетенька, я говорю не о самости, а о данности.
Совсем другой разговор может возникнуть, если мы скажем: «Моя женственность проявляется в конкретных вещах», «Моя русскость проявляется в том, что на каждый случай у меня есть цитата Александра Сергеевича, я над этим работаю, я понимаю, что такое сложный и интересный русский характер». Тогда появляюсь я.
Когда мы говорим про детей, у нас огромный, почти неизбывный соблазн гордиться точно так же. Гордость – определенные ощущения в теле. Где-то во мне существует этот кайф. Как любое живое существо, я хочу повторить то, что мне приятно. Как я могу достичь этого чувства? Примитивным образом: «Вы все – узбеки, а я – русский!», «Вы все – бабы-дуры, а я – мужик».
Или же «У вас у всех дети как дети, а у меня хоккеист». В этот момент я хоккеиста должен привести в состояние своей системы координат, своей фантазии, чтобы этот кайф внутри меня случился. Для возникновения ощущения, не связанного с моей работой над собой, я должен организовать ситуацию вовне. И в этом смысле почти одно и то же: гордиться сыном-хоккеистом или своим грузинским, еврейским или русским происхождением. Это не моя работа, это не зависит от меня. Я говорю ребенку: «Стань таким, чтобы этот кайф внутри меня возник». Очень странная система координат.
У человека помимо гордости существует удовлетворение. Когда Пушкин восклицает: «Ай да Сашка, ай да сукин сын!», мне кажется, это не гордость. Он сделал что-то, чего от себя не ожидал. Чаще всего в этот момент мы не гордимся, а обалдеваем от счастья. Это совсем другое ощущение. Почему нам радостно, когда у близкого человека есть какое-то сумасшедшее достижение, важное для него? Потому что это часть меня, часть моей жизни.
Но гордиться, в смысле «Поднажми еще немного, и я тобой загоржусь» – здесь опасность попасть в ловушку очень, очень велика. Потому что с другой стороны лежит «Ты так меня огорчил!».
Две стороны одной медали. Это учит нас жить для того, чтобы мама либо гордилась, либо не огорчалась.
«Я так тобой горжусь» для ребенка, конечно, конфетка, как любая похвала, на психологическом и химическом уровне. Здесь сразу происходит закрепление. И это ощущение хочется повторить. Особенно до семи лет, в ту пору, когда мама и папа очень-очень важны. Когда настолько важно мамино поощрение, улыбка, что я физически себя хорошо чувствую от этого.
Давайте вернемся к примеру с хоккеистом. Итак, человек играет в хоккей. И во время последнего матча всего один день в их городе проходят гастроли японского театра. У него есть возможность отыграть матч или сходить на блистательный спектакль, который только сегодня и здесь, и вообще интерес его жизни. Пойти в театр прикольно. Но мама гордиться не будет.
А вообще-то, если мы переходим на язык гордящихся, повод для гордости огромный: осознать мои ощущения, мой интерес! Это такая крутость, что я способен отложить что-то и за этим интересом пойти. Не на мордобитие, не на стриптиз, заметьте, а в театр. Но мама не будет гордиться! Мама так ждала, так ждала, что ее Саша/Вася/Петя/Дима наконец-то блеснет! Тетю Розу позвала из соседнего города посмотреть. И вместо гордости возникает позор. Ловушка, конечно, более сложная, чем «Ты – молодец» или «Ты – идиот». «Я тебя одобряю», вот что это такое с точки зрения месседжа.
Я далек от того, чтобы сказать: «Нельзя этого говорить». Все слова в русском языке прекрасны. Важно, чтобы ребенок понимал, что вы имеете в виду. Расскажите, что значит «Я тобой горжусь». Как грудь вашу переполняет теплом, как вы хотите улыбаться, как вам хочется его обнять, потому что ему так круто.
«Ты – молодец»
Когда мы говорим короткими фразами, речь идет о сигнальной системе. «Я получил пять». – «Молодец!» Все, мы хотим быстрее закончить разговор и обратно в фейсбук или к котлетам. Человеческая обратная связь предполагает более сложное погружение. «Ты – молодец» – самая простая оценка, самый простой капканчик.
Мы в школе с учителями много говорили о том, что такая прямая, сигнальная похвала – ровно то же самое, что сказать человеку: «Ты – идиот!», просто работает в разные стороны. Это обесценивание. Включение минимальной рефлексии, очень простой путь.
Мы все так действуем не потому, что мы плохие. Мы срезаем углы, любую фигуру стремимся сделать более простой.
В семейной жизни, например, скорчил рожу, и она поняла, что не так себя ведет. А так, надо же поговорить, подумать, что ты хочешь сказать. Может, это вообще твой личный «баг». В этот момент начинается рефлексия. И вместо секунды я трачу десять минут. А я ведь стремлюсь к упрощению: «Я это сказал, и ребенок так поступил». «Не прочтешь стишок, гулять не пойдешь». Отлично! Простейшая система, и он ведь, действительно, до поры до времени прочтет вам этот стишок, потому что хочется гулять. Это плохо? Да, плохо. Но для того, чтобы мы открыли, что это больше вредит, чем приносит пользу, нам хотя бы минимально нужно усомниться.
Мы не должны бояться разговаривать. Мы привыкли не разговаривать, привыкли существовать в рамках сигнальной системы координат: сейчас я доволен, сейчас я недоволен, сейчас у меня, как у Стругацких, пароксизм довольства. Я посмотрел твой дневник: «Пять, пять, пять, отлично, все, молодец, иди, поиграй со сверстниками, папа смотрит КВН». И это происходит не потому, что мы плохие, а потому что мы привыкли. Эта система координат диктуется отовсюду: из телека, из радио, с билбордов.
Конечно, дети чувствуют, когда мы говорим им это, лишь бы отвязаться. Но они с такой скоростью учатся! Сколько раз нужно повторить «Ты – молодец», чтобы ребенок сказал себе: «Так это я ошибаюсь. Мама ведь не может ошибаться».
Это все тот же вечный пример с едой: когда я встаю из-за стола и ухожу, а мама говорит: «Надо доесть». В первый раз я точно знаю, что не хочу есть, но мама же так говорит. Жизнь сложнее, чем я думал! Второй раз, третий, четвертый, на пятый я делаю однозначный вывод: «Надо доесть». Мы очень талантливые все. И в этом смысле вспоминаем Жванецкого: «Сел на мое место, сам заговорил». Ребенок оказывается в понятной системе координат, сигнальной.
Это вообще не обратная связь, к обратной связи эта фраза не имеет никакого отношения. Мама спрашивает: «Как дела в школе?» В какой-то момент даже заклятый двоечник перестает бояться этого вопроса: мама ничего не имеет в виду, всего лишь надо сказать: «Нормально», и продолжения разговора не последует. Мы говорим о плохой маме сейчас? Нет, мы говорим об очень хорошей маме, которая находится в этой сигнальной системе.
«Куда отдать ребенка?»
Я по первому образованию филолог, соответственно мне кажется, что слова очень важны. В частности, глаголы. Удивительным образом все начинает меняться, если мы меняем форму глагола. Попробуйте сказать: «В какую школу он пойдет», честное слово, в этот момент меняется содержание. Вместо объекта появляется субъект. «Я отправляю его в лагерь». Ну вот, дальний багаж я куда-то отправляю. Или «в какой лагерь он едет?».
На это нужна еще меньшая рефлексия. Более того, это можно делать сознательно. Можно дочитать этот текст, пораздражаться, а потом сказать: «Я попробую». В разговоре с подружкой вместо «Я отправила его в кружок» сказать «Он пошел в кружок».
Это изменит разговор. Самое прикольное, что вся эта объектность наблюдается не у каких-то необразованных, диких родителей, это происходит у всех. Это и про меня пример тоже, я сам себя рулю бесконечно.
В тот момент, когда меняется глагол, возникает возможность выбора. Почему? Это же та же самая пресловутая родительская ответственность, про которую никто не может объяснить. Перед кем ответственность? Что за ответственность?
Если я выбираю ему школу, значит, я – несчастная мать или отец, ужасно страдаю, хочу, чтобы в школе все было хорошо. Другое дело, если он выбирает школу, а я на его стороне.
Я – его помощник, я умею что-то, чего он еще не умеет, могу ему это передать, поддержать, дать сил. Он выбирает, я с ним иду в эту школу.
И тогда возникает странная история: можно с людьми поговорить, посомневаться, показать ему то и это, вот здесь он не заметил, а тут я не заметила, он мне показал. Счастье. В противном случае мы опять срезаем углы, делаем дорожку более ровной и понятной. А ведь в углах самое интересное и происходит. Это же и есть общение, вообще-то.
«Ты же девочка»
Я вообще не понимаю, зачем надо говорить на уровне гениталий. Мы в этот момент говорим не о личности, ей-богу, а о первичных половых признаках. Это очень странно и влечет за собой дикое ограничение. Расскажу историю про собственную дочь. Это было в школе, день рождения у какого-то ребенка. И пришли его бабушка и дедушка. Дедушка – бывший военный и бабушка, жена полковника, все как положено. Эмме моей было лет шесть-семь. У Эммы с волосами всегда сложная история, тогда она их не расчесывала, у нее была идея, что они должны сами расти. И вот нерасчесанная Эмма идет мимо бабушки, которая проглотила стержень. А мы наблюдаем это с другой стороны коридора.
– Девочка, почему ты не причесана?
Эмма вместо вопроса «Зачем?» корчит рожу. Бабушка продолжает:
– Любая девочка должна быть причесана!
– Почему?
Бабушка, теряясь:
– Но это тебе любой доктор скажет!
Эмма, уже уходя, через плечо смотрит на нее и с такой жалостью говорит:
– Ну а доктор-то здесь при чем?
Вот, собственно, и все. В этот момент бабушка надавила на все кнопки, а они оказались недействующими. Уверен, что это лучшая бабушка в мире. Что она хотела сделать? Она хотела включить те самые сигналы, которые должны быть сформированы, в ее фантазии, у человека женского пола в шесть лет.
Родитель в этот момент, конечно, создает огромный комплекс на будущее. Лишает человека права на собственные проявления вообще. Потому что это очень быстрая форма, я научаюсь этому мгновенно: «А вот сейчас я веду себя как девочка? А может, нет?» Причем «не как девочка» – автоматически плохо.
С мальчиками та же история. Почему возникает грубость и агрессия? Потому что мы «должны». Должны нести на себе гордое звание мужика. Не плакать – полбеды. Мне обязательно надо быть циничным и грубым. Я не могу позволить себе нежность. И в какой-то момент я понимаю, что только так и могу жить. Я должен, потому что это обязательный набор. Это закрепляется очень быстро, за два-три раза. Потому что, к сожалению, мы это произносим, пока они совсем маленькие, когда каждое наше слово – это слово богов с Олимпа или с горы Сион и безусловно накладывается на все остальное.
По себе помню: ты стоишь, плачешь, а взрослые, желая тебя поддержать, говорят: «Ты же мужик, не плачь». А тебе четыре года. И тебе еще горше.
Что еще? Что взрослые, которые произносят эту фразу, сами в нее верят, бедняги. И здесь возникает история про подражание: «Хочу быть, как мама, хочу быть, как папа», и получается «Не женское это дело, не мужское это дело». Эта фраза страшнее, чем все, про что мы говорили до сих пор.
Любые гендерные штуки, которые закладывают комплексы и принижают другой пол, опасны. «Ты че, баба?» – говорит папа мальчику. В этот момент у ребенка закладывается дикая модель: я не имею права на чувства, я не должен быть, как они. Более того, у мужиков возникает еще более сложное чувство в нынешнем нашем обществе: «Я здесь решаю!»
Когда мы говорим: «Ты же девочка», что мы имеем в виду? «Ты должна выглядеть так, чтобы понравиться!» А для чего еще девочке причесываться?!
Так мы и закладываем отношение девочки к себе как к объекту. И с мальчиками то же самое. Он ведь должен быть мужиком и не имеет права на собственные чувства. И она тоже всегда должна быть совершенно определенной. Роли расписаны, все «можно» и «нельзя» уже известны. Мы лишаем их права на себя, возможности завернуть за угол, подумать, остановиться, удивиться тому, какие они.
«А вот Петя…»
Во всем, о чем мы сегодня разговариваем, есть одна и та же история: ты неважен. Важен Петя, либо то, что скажет папа, либо родительское «я тобой горжусь», что угодно еще, кроме тебя самого.
В ситуации с Петей это немножко другая модель: я начинаю жить для Пети в этот момент. Петя получил пять, а я получил три. Отлично. Меня перестает в этот момент интересовать, собственно, содержание, мне надо обогнать Петю. «Может, ему руку сломать? Неплохая, кстати, идея. А я за месяц, пока рука будет заживать, дотянусь до Петиного уровня».
Происходит очередное обесценивание меня в собственных глазах. Понимание того, что я для мамы и папы важен, только если я существую в системе координат пятерок, четверок и уборки мусора. Я сам с собой могу играть в любые игры. Человек имеет право на все что угодно, если это не несет вреда другим людям. Есть только вопрос минимальной рефлексии, я настаиваю на этом.
Мужчинам будет понятен пример, если они будут это читать. Едем мы, скажем, по трассе, и вдруг почему-то нам очень хочется обогнать машину справа! Он нас подрезал, а мы его сейчас догоним и подрежем в ответ. Это не азарт, это просто базисный, животный инстинкт первым прийти к водопою. И больше ничего там нет. Значит ли это, что подобные чувства мы не должны испытывать? Вовсе нет. Только давайте дадим себе эти полсекунды на рефлексию: зачем я хочу это сделать?
Мальчик один в сочинении написал когда-то: «Я больше всего люблю бежать по высокой траве и орать». Отлично! Теперь иди и беги, и пусть тебя это радует на 100 процентов. А если я бегу, чтобы Петю обогнать, эта трава доставит намного меньше удовольствия. А если мне про этого Петю еще и твердят все время, что я ДОЛЖЕН его обогнать, меня начисто лишают удовольствия самому себе построить игру.
Я думаю, потенциально «опасных» фраз много, но по сути мне кажется важным совсем другое.
Можно говорить все что угодно. Почти. Но надо понимать, что при этом мы имеем в виду.
А для того, чтобы это понять, нужно остановиться на те самые полминутки и подумать, дать себе время для минимальной рефлексии. Просто проверить себя, подумать еще разок, чего мы хотим.
Автор: Дима Зицер
По материалам: www.pravmir.ru